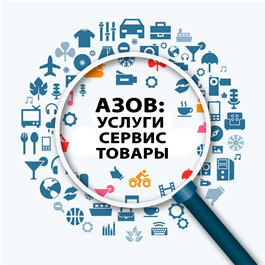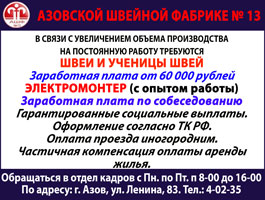Рассказ Бориса Гончарова "ЛИЛОВЫЙ БАНТ"
- Категория: Общество / Азов+: проза и поэзия
- Автор: redactor
- Дата: 7-05-2015, 10:34

Уважаемая редакция!
Каждый год я вспоминаю одну печальную дату из жизни города Азова в дни оккупации. 62 года назад в теплые дни октября фашистские захватчики угоняли на работы в Германию молодых азовчан и азовчанок - ребят 16-летнего возраста. Об этом и повествует рассказ «Лиловый бант» нашего земляка Бориса Гончарова...
Я познакомился с Борисом Гончаровым осенью далекого 1958 года на заседании литературной группы газеты «Красное Приазовье». Обычно после литгруппы мы прогуливались, и я провожал Бориса до самой Украинской улицы, где он жил в родительском доме. Мы шли и беседовали, в основном, о литературе. Борису было тогда 32 года, был он старше меня на 11 лет и его трудная жизнь и судьба не шли ни в какое сравнение с относительно благополучной моей жизнью.
Осенью 1942 года Борис в числе многих азовчан был угнан на работы в Германию.
Из пересыльного лагеря Вильгельмсхаген - биржи труда - Бориса отправили работать на военный завод «Фузор», откуда он вскоре совершил побег. Бориса поймали и отправили на биржу труда, где его купил бауэр (помещик) из маленького села Готтберг. Борис снова бежал. И вновь его поймали, выпороли и отправили в лагерь «Шварцвальд» (Черный лес) в Альпах на работы в каменоломнях - таскать валуны и тяжелые камни...
И все это за два с половиной года - в холодных бараках, на голых нарах, где вся еда - пайка хлеба да миска пустой похлебки.
Его освободили, по всей вероятности, войска союзников. Сохранилась фотография, которую он прислал из Германии, из Ораниенбурга. На фото Борис в солдатской форме рядом с советским офицером, а на обороте дата 8 апреля 1945 года.
После победы Борис Гончаров недолго служил в армии, а потом работал на севере. В 1959 году мы встречались с ним редко. Я заканчивал институт в Ростове, в Азове бывал нечасто, а в начале августа уехал на работу в Казахстан, в поселок Челкар Актюбинской области.
Уже в Челкаре в субботнем номере «Литературной газеты» № 4 от 9 января 1960 года я наткнулся на знакомый адрес: Ростовская область, город Азов, улица Украинская № 7, а затем прочитал статью Бориса Гончарова «Далекому другу, друзьям». Это было письмо бывшему пленному солдату французской армии Ламье Ноэлю из Дюнкерка и его товарищам по несчастью.
Это был рассказ о братской помощи, которую постоянно оказывали французские солдаты шестнадцатилетнему русскому парню - потихоньку подкармливали его, учили французскому языку, обучали боксу, защищали его от хозяина.
«И теперь, когда прошло так много лет, я хочу признаться: «Я так любил вас! Я любил тебя, дорогой д'Артаньян моих мальчишечьих грез, любил твоих благородных друзей!... И еще любил вас потому, что мы вместе ненавидели войну и врага» - так писал Борис в своем письме.
Осенью 1960 года я приехал в отпуск и сразу пошел к Борису. И он рассказал мне, что эта статья была напечатана в одном из французских журналов. И сразу же Борису через французское посольство переслали множество откликов простых французов. Писали девушки и женщины, писали солдаты французской армии. Борис стоял посреди комнаты, высокий, худой, в стеганной безрукавке и клал на стол фотографии француженок - школьниц и домохозяек, работниц и служащих - со словами благодарности и признательности и их адресами.
Не было только отклика от Ноэля Ламье и его товарищей. Кого-то уже не было в живых, кто-то не читал журнала, а кто-то, возможно, жил и работал в другой стране.
Заканчивая свое письмо, Борис Гончаров писал: «Я так ненавижу прошлую войну и так не хочу возникновения новой, что мне хотелось бы вновь поговорить с вами, как и шестнадцать лет назад. Мы хотим жить. Жить в дружбе и без страха. И пусть наша старая дружба будет залогом дружбы новой, еще более сердечной!».
Я еще два раза приезжал домой в отпуск из Казахстана. Он читал мне свои рассказы, статьи. Последний раз я встретился с Борисом зимой 1963 года в кафе «Чайка» на вечере ростовских писателей и поэтов. Помню, из поэтов были Александр Рогачев и Виктор Стрелков. К этому времени Борис Гончаров уже издал свою книгу «На перепутье». В нее вошли рассказы «Далекому другу, друзьям», «На перепутье», «Жить!», «Дядя Ваня», «Лиловый бант». «Все эти произведения вместе составляют впечатляющий цикл, посвященный тому, что нельзя забыть», - писал в послесловии к книге Леонид Шёмшелевич, - «Они разоблачают античеловеческую сущность фашизма и утверждают духовную красоту людей, не покорившихся гитлеровским извергам, не сломленных никакими испытаниями». И далее: «От всего сердца желаю Борису Гончарову доброго пути в литературу, новых творческих успехов!»
Но дни Бориса Гончарова уже были сочтены. Три года фашистских лагерей подорвали его здоровье. Умер Борис Гончаров, не прожив и 40 лет. Но осталась его книга «На перепутье», небольшая по объему, но наполненная до краев трагизмом неволи и мужеством не покоренных врагом людей.
Валентин Еременко
ЛИЛОВЫЙ БАНТ
Я увидел их в Азовском порту. Это были, вероятно, мать и дочь. Мать, дама (к ней очень подходит это старомодное слово) лет сорока пяти с прекрасно сохранившейся фигурой, была красива. Красива той красотой, когда затрудняешься сказать, то ли это следы былой красоты или же настоящая красота зрелости. Так иная акация весной радует глаз светлой зеленью, а все же сквозь листья видишь сухие прошлогодние ветви и что само дерево узловато, коряво, однобоко. Но вот придет лето, затянется дерево молодой порослью, закруглится, войдет в силу. И тогда почувствуешь, что осень близка, что эта красота зрелости недолговечна и, может, именно потому она так дорога тебе и не променяешь ты ее ни на какие блага весны.
На даме темный костюм хорошего покроя, бархатная черная шапочка и короткая вуаль. Из-под вуали видны округлый мягкий подбородок, красиво очерченные губы и прямой нос. Лицо чистое, белое, но уже лишенное юношеской свежести. Глаза карие, живые, блестящие, лишь слегка притушенные временем или печалью разлуки. В левой руке, прижимая к груди, дама держит ридикюль, из которого время от времени вынимает белый, обшитый кружевами платочек, и жестом, может быть, совершенно бессознательно исполненным грации и достоинства, прикладывает его к глазам.
Дочь, которой лет восемнадцать-двадцать, очень похожа на мать. Очень. Только дочь чуть красивее матери - настоящая красавица. Чуть выше ростом. Волосы у нее светлее, чем у матери, совсем русые и более волнистые, мягкие, длинные.
Фигура стройнее, гибче. Лицо белое, мраморное, девически свежее. Губы чуть полнее, выразительнее, ярче. Глаза большие, голубые, окруженные пушистыми ресницами. На девушке коричневое шерстяное платье простого покроя, но белоснежный воротничок из тонкого полотна делает его очень нарядным.
В руках перед собой девушка держит гитару, поставив ее на свой черный, блестящий лакированный туфель.
Гитара новенькая, роскошно отделанная разноцветным перламутром. Гриф украшает нарядный лиловый бант, завязанный с большим искусством на четыре или шесть концов. Атласная широкая лента тщательно отутюжена. Видно, бант завязан совсем недавно, может быть, сегодня утром, перед самым отъездом, и мне почему-то сразу приходит на ум, что хозяйка его, вероятно, мало думала в ту минуту о предстоящей разлуке.
Дочь стоит в стороне от матери, в нашей группе, группе отъезжающих. В живом коридоре с автоматами на животах прогуливаются эсэсовцы и сдерживают толпу провожающих. Эсэсовцы ведут себя сдержанно, без обычных криков, и даже не верится, что всего два часа назад они расстреляли восемь человек, которые пытались уклониться от отправки в Германию.
...Было чудесное октябрьское утро. Медно-красное солнце по-весеннему ласкало теплом. Легкий туман курился над зеркальной гладью реки, по которой веером разбегались солнечные дорожки. На той стороне Дона, вЗадонье, деревья роняли золотую листву прямо в воду.
Было грустно. Хотелось навсегда запомнить родной пейзаж. Хотелось увезти с собою туда, на чужбину, что-нибудь свое, такое, чтобы там не было так сиротливо. Многим, как и мне, было не по себе. Навзрыд плакали девушки, успокаивая одна другую и вновь начиная рыдать все вместе. Хмурились и покусывали губы ребята.
Падали в обморок матери там, на той стороне, в толпе провожающих. Унылую, мощенную булыжником площадь порта оглашал пронзительный, нечеловеческий крик. Кто-то бился у кого-то на руках, кого-то успокаивали. Люди волновались, кричали, живой коридор ломался и шевелился.
Меня никто не провожал. Я уговорил мать остаться дома. Для чего терзать себя лишний раз? Иногда меня окликал кто-нибудь из знакомых. Я махал рукой и бодро кричал что-то в ответ.
Когда шум вокруг немного утихал, я не вольно прислушивался к разговору заинтересовавших меня женщин. Дама давала дочери последние наставления, как это делают испокон веков все матери перед отъездом детей - торопливые, непоследовательные и в большинстве бесполезные.
«Лиля! Береги себя! Смотри там!..» - и тут же совсем неожиданно: «Ты клетчатый шарфик в чемодан положила?» Или: «Не забывай. Если будет возможность - играй на пианино. Без практики перезабудешь все»...- и дама поджимала губы, сдерживая слезы, и торопливо доставала из ридикюля кружевной платочек.
Дочь смотрела на мать сияющими глазами и не могла согнать с лица улыбку даже тогда, когда та плакала. Ее, кажется, мало страшил отъезд в Германию. Так штурмана, только что окончившего мореходное училище, неодолимо тянет в первое дальнее путешествие, хотя он и знает наверняка, что встретит в пути трудности, но слепо надеется на свои силы, которым не видит предела, и это придает предстоящему путешествию очарование романтики.
«Да, мама. Хорошо, мама, - время от времени громко говорила Лиля. Но, видно, что она не слушала мать, а просто желала ее успокоить. - Да, да! Ну, мы же договорились... Буду писать. Если хорошо будет, вызову тебя... Уроки на пианино буду продолжать. Ты же знаешь - я без музыки не могу...»
Началась посадка на баржу. Каждому из нас дали по круглой булке серого хлеба. Все вздохнули с облегчением. Кажется, гитлеровцы не собирались морить нас голодом.
Колесный буксирчик с трудом, надрываясь, тащил нашу огромную деревянную баржу. Проплыл мимо островок, похожий формой на Наутилус капитана Немо, - знаменитый азовский пляж, заросший вековыми тополями. Скрылся за поворотом порт. Остались позади белые корпуса водокачки. Разворачивался на холме наш древний город, утрачивал живые краски, рыжел и наконец окутался синей дымкой.
Все притихли. И каждый смотрел на зад: «Удастся ли вернуться?»...
Припекало солнце. Иногда над баржей с криком проносилась чайка. Вдали глянцевито поблескивали рукава Старого Дона.
В барже было тесно. Большинство людей сидело на вещах. Ребята прикорнули, как попало. Девушки, более практичные, сооружали что-то наподобие постелей и укладывались кучками.
Лиля сидела на чемодане невдалеке от меня. На коленях у нее лежало аккуратно сложенное, вывернутое наизнанку демисезонное пальто. Рядом, прислоненная к деревянной переборке, стояла гитара. Лиловый бант диковинным цветком нагловато сиял на солнце.
Лиля сидела неестественно прямо, аккуратно расправив платье; она напоминала пассажира, привыкшего ездить в купе со всеми удобствами и случайно ненадолго попавшего в общий вагон. И ни с кем не разговаривала: видно, подруг у нее не было. Меня это поразило так же, как и то, что при прощании никто к ней с матерью не подходил, никто с ними не здоровался. Или, может быть, они были не местные, не азовские.
... Проснулся я внезапно. Перед Лилей, которая сидела на чемодане в прежней позе, стоял молодой немец в желтой рубашке с засученными по локоть рукавами, что-то говорил и смеялся неприятным прерывистым смехом, словно давился. Лиля смеялась вместе с немцем, и нежная голубоватая жилка трепетно билась на ее белой округлой шее. Не знаю, понимала ли девушка то, что говорил эсэсовец, но было видно, что разговор доставляет ей удовольствие. Щеки ее порозовели, и в глазах, так похожих в эту минуту на наше голубое-голубое донское небо, время от времени вспыхивали победные искорки.
Когда немец ушел, лежащая неподалеку коренастая веснушчатая девушка в защитного цвета телогрейке приподнялась на локте, внимательно посмотрела на Лилю серыми глазами и сурово заметила:
- Ты бы, девка, меньше с ними заигрывала. Неровен час, доиграешься.
Лиля промолчала и взяла в руки гитару. Гибкие музыкальные пальцы легко и быстро перебирали струны. Колыхался бант. Играла она что-то незнакомое - бравурное и торжественное, может быть, какой-нибудь старинный гимн Красоте.
...Нас везут в телячьих вагонах уже вторую неделю. Эсэсовская «щедрость» выходит нам боком. При отъезде фашисты выдали всем по булке хлеба, но «постеснялись» объяснить, что это паек на всю дорогу, и теперь мы «положили зубы на полку», как шутят ребята. Хорошо еще, что у каждого было что-то припасено. Да и все как-никак знакомые - поделимся.
Уже давно проплыла мимо коричневая, выжженная солнцем и горючими, как человеческие слезы, росами донецкая степь - плешивая и горбатая, похожая на спину заезженного верблюда. Мелькают осененные вербами белые хатки Приднепровья, похожие на декорации к украинским пьесам. И как памятники войне в придорожном бурьяне валяются длинные обуглившиеся железнодорожные составы.
Везут нас окружными путями, в объезд крупных городов. Иногда сутки - двое прыгают и стучат на стыках вагоны, и мы мучаемся от жажды. Иногда сутками стоим где-нибудь на глухой развилке, и в голову лезут страшные мысли: жестокость фашистов неизмерима - кто знает, что им придет на ум.
В те дни, когда нас везут нормально, раз в день конвой останавливает эшелон где-нибудь на перегоне, оцепляет его и открывает двери...
И вот тогда выделились те девушки, которые сторонились своих. И Лиля была среди них. Одно время она была неразлучна с остроносой, остроглазой чернявой девушкой, вертлявой и смешливой. Потом их перестали встречать вместе. Во время одной из остановок я заметил, как эта дивчина спрыгнула с подножки вагона, в котором ехали солдаты-конвоиры.
Ежедневно в короткий час стоянки я подходил к Лилиному вагону и старался ее увидеть. Первые дни нашего путешествия в телячьих вагонах я поражался ее умению в трудных условиях следить за своей внешностью. Светлые волосы у нее всегда бывали аккуратно причесаны. Платье сидело так, будто лишь минуту назад тщательно отутюжено. И даже белый воротничок по-прежнему кокетливо и мило обрамлял нежную девичью шею. Выходя из вагона, Лиля всегда брала с собой гитару, и лиловый бант, все такой же яркий и нарядный, странным цветком колыхался в нашей пестрой толпе.
На остановках вокруг Лили постоянно толпились немцы. Слышались их отрывистые, как слова команды, реплики: «Хорошая барышня! Красивая! Настоящая русская принцесса! И даже говорит немного по-немецки».
Вначале Лиле откровенно нравилось такое поклонение. Потом она, видно, стала понимать и двусмысленные улыбочки солдафонов, не привыкших церемониться на оккупированной территории, и грязноватые намеки, и пошловатые шуточки.
Одно время ее изо дня в день осаждал высокий длиннолицый немец, на тощей фигуре которого мундир болтался, как на вешалке. Он здоровался с Лилей, цепко хватая ее за руку, обнажал в улыбке гнилые зубы, расставленные во рту в шахматном порядке, и требовал гитару. С чувством превосходства оглядывал толпу, забрасывал тонкую и длинную, как ходуля, ногу на колесо вагона и откашливался. Потом костлявым сухим пальцем зажимал в самом верху один лад и, щипля попеременно первую и вторую струны, начинал играть, подпевая слабым высоким дребезжащим голоском.
«Аа-а-а! А-а-а-а! Ааа!» без конца тянул немец, и временами от усердия из его хрящеватого носа показывались бульбы. Но безголосого певца это не смущало. Мы не выдерживали, расходились. Смеяться было нельзя: музыкант был обидчив и горяч на руку.
Пение вперемежку с комплиментами продолжалось до самого отхода поезда, и Лиля беспомощно, с тоской озиралась по сторонам.
С каждым днем взгляд ее делался все беспомощнее, полные губы ее раскрывались в улыбке все реже, и в васильковых глазах, вытесняя прежнее самоуверенное выражение, залегало пугливое беспокойство.
Шли дни. Под стук колес рождались унылые думы. Осень, в которую мы ехали, или наоборот, которая догнала нас, раскрыла нам сырые, холодные объятия.
Барабанили дожди по крыше вагона, и в щели заползали струйки воды. Легче становились наши узелки с продуктами и тяжелее настроение. Ребята, чертыхаясь, поминали Гитлера и потуже затягивали пояса.
Однажды на остановке убежали четыре человека. Немцы положили нас всех в грязь, и два часа мы прислушивались к дробным автоматным очередям вдали.
Одного из беглецов, молодого белокурого парня, притащили убитым; остальные, двое мужчин и девушка, сумели скрыться в придорожном кустарнике. С тех пор эсэсовцы усилили охрану и останавливали состав только в голой степи.
Теперь на остановках наш табор выглядел еще непригляднее. Дождь, грязь и голод все обесцветили: хмурое небо, бледные лица, серая одежда.
Как-то постепенно, незаметно, исподволь сникла, поблекла Лиля. Сперва исчез белый воротничок, и платье сразу утеряло свой элегантный вид. Потом девичья свежесть лица, под которой раньше без труда угадывался румянец, сменилась нездоровой, с желтизной, бледностью. Голубые глаза будто чуточку вылиняли и так же, как и черные лакированные туфли, утратили задорный блеск. Модное демисезонное из темно-синего ленинградского шевиота пальто порыжело от пятен и грязи. В тревожных взглядах не проглядывало больше кокетство. Гитара валялась в вагоне.
И только когда нас выгружали в Берлине, в пересыльном лагере, Лиля приободрилась. Она с интересом посматривала на проносившиеся невдалеке электрички, и в ее глазах ожил прежний самоуверенный блеск. Бог знает, какие мысли роились в эту минуту в ее хорошенькой головке. И только лиловый бант, мятый и грязный, жалко подрагивал обтрепанными концами.
...Вильгельмсхаген - огромный лагерь, громко именуемый «Биржей труда», как хорошо настроенная машина в состоянии ежедневно пропускать сотни людей.
Процедура купли и продажи, несмотря на немецкий формализм, упрощена до крайности. Человека, оказывается, купить гораздо легче, чем булку хлеба в магазине. Никогда еще человеческая жизнь и руки не ценились так дешево.
Одна из особенностей Вильгельмсхагена – железный ритм. Грязная зона – обработка, дезинфекция, баня. Чистая зона – жестяной номерок, паек хлеба и этап. К тому, кто тебя купит. Туда, куда пошлют.
В день нашего приезда в лагере было только одно печальное происшествие: в пустом недостроенном бараке повесилась девушка. Не пожелала идти в дом терпимости, куда ее назначили.
Когда я подошел на шум, сквозь толпу кого-то несли на руках. Я пробрался вперед. Из-за спин проглянули на мгновение русые волнистые волосы. Движимый мрачным предчувствием, я заглянул в барак. На деревянной балке под потолком висел парусиновый ремень, каким обычно увязывают чемоданы. Я уже собирался выйти, когда неожиданно в другом проходе между нарами увидел гитару. Обе плоские фанерные деки ее были пробиты чем-то острым. Сломанный гриф лежал отдельно, и только скрюченные струны его удерживали. Гриф гитары был повязан каким-то обтрепанным грязным лоскутом, который походил на облитую фиолетовыми чернилами тряпку.
Я долго стоял в задумчивости. И мне не верилось, не хотелось верить, что всего три недели назад это был нарядный лиловый бант…
Источник: (рассказ об азовчанах, угнанных в Германию), газета «Приазовье», 2004 год, 29 июля.
Другие новости по теме:
Добавить комментарий